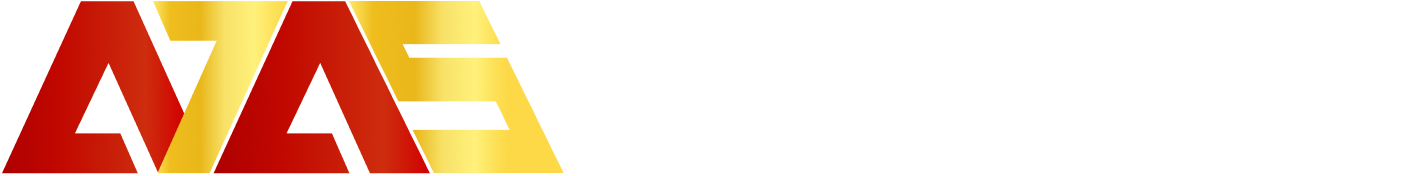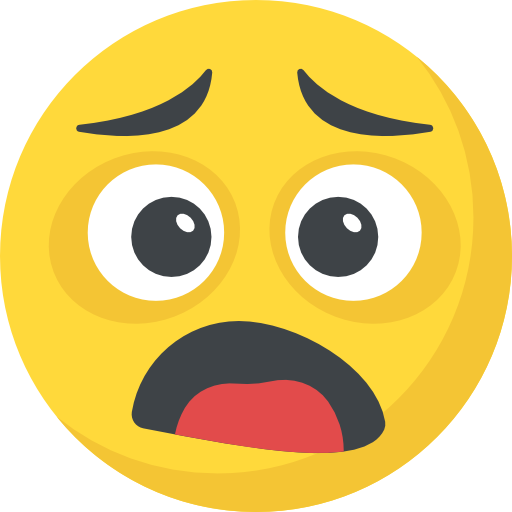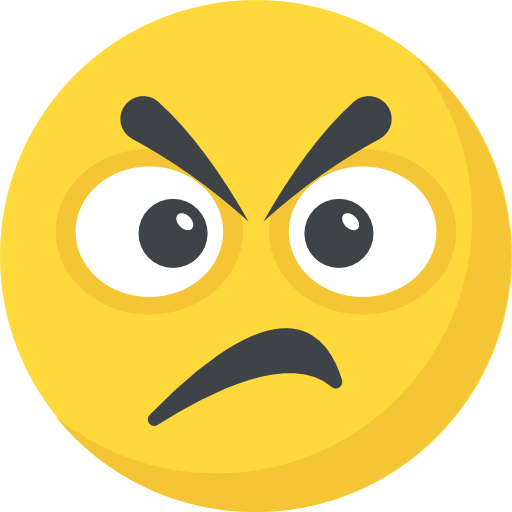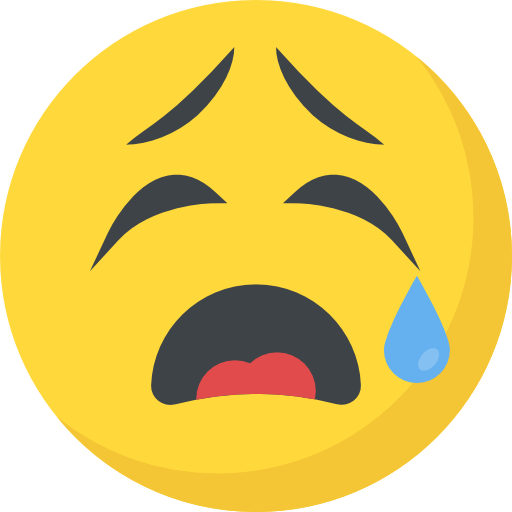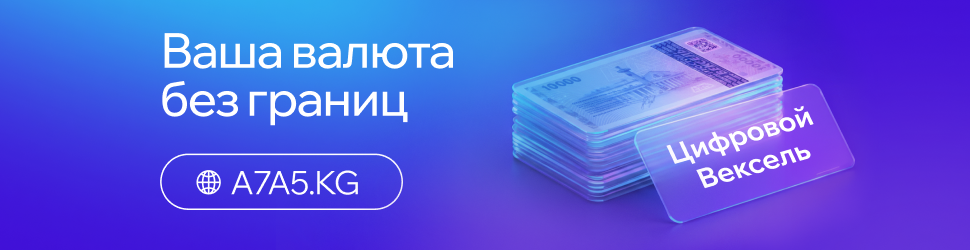Сейчас читают: Иллюзия контроля
-
01
Иллюзия контроля
Иллюзия контроля

Способны ли регуляторы обуздать децентрализацию?
Денис САНИН
Криптовалюта стала ответом на финансовый кризис 2008 года, когда создание квазифинансовых долговых бумаг, безответственность банков и работа печатного станка во всем мире вышли на новый уровень. Поскольку централизация финансовых потоков неизбежно ведет к риску регуляторного захвата, единственным решением могло стать появление глобального децентрализованного расчетного механизма. Так зародился Bitcoin.
Звучит все это немного пафосно, но именно такой смысл закладывал Сатоши Накамото в созданную им пиринговую платежную систему, свободную от посредников, чиновников и регуляторов. Однако развитие индустрии привело к заметному сокращению уровня декларируемой свободы. Да, регуляторы по-прежнему не могут влиять на ход транзакций, вместо этого они усилили контроль над входами и выходами.
Криптоюрисдикции
Далеким от отрасли людям криптовалюты по-прежнему кажутся чем-то эфемерным и сиюминутным, этаким временным увлечением гиков – позабавятся и бросят. Часть из них до сих пор уверена, что это какой-то вид мошенничества, финансовая пирамида, «МММ» на новый лад. Эти тезисы легко разрушить простым перечислением существующих в мире криптоюрисдикций – сейчас их больше двух десятков. И это не какие-нибудь африканские страны, поверившие в Bitcoin от инфляционного отчаяния. Смотрите сами:

Наличие юрисдикции означает ряд принятых законов и правил, устанавливающих порядок работы отрасли, допуск участников, необходимые меры по предотвращению киберпреступлений. Так, криптобиржа должна получить соответствующую лицензию для работы с цифровыми/виртуальными активами, подтвердить техническую оснащенность, соблюдение политики разделения клиентских активов и тому подобное.
Принятые правила могут распространяться не только на криптобиржи и инвесторов, но также на банки или отдельные виды цифровых активов. Например, в США, Швейцарии и Сингапуре банки могут предоставлять кастодиальные услуги по хранению криптовалют, а в Казахстане, Узбекистане и Беларуси – только через дочек-лицензированных операторов, но не напрямую.
Что касается отдельных видов цифровых активов, то в ЕС уже в полную силу заработал законопроект MiCA, в том числе регулирующий стейблкоины. Он разрешает к обороту только на 100% обеспеченные резервами стабильные монеты, эмитенты которых разместили обеспечение в банках ЕС.
Глобализация финансовых потоков
Может показаться, что наличие 21 криптоюрисдикции оставляет большое поле для маневра функционирующим криптокомпаниям. На самом деле нет: существует большое число не только региональных, но и международных правил по ведению бизнеса в области финансов и виртуальных активов, которые необходимо неукоснительно соблюдать.
Например, мировые стандарты по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT) задает международная межправительственная организация FATF, основанная в 1989 году. Следование стандартам открывает финансовым организациям доступ к глобальной ликвидности. И наоборот, если юрисдикция компании оказывается в сером списке FATF, то она столкнется с повышенными проверками, задержками переводов, более высокими комиссиями и снижением привлекательности в качестве партнера на международной арене. Попадание же в черный список фактически означает бойкот.

Поскольку криптовалютный рынок – это глобальный финансовый рынок, то для открытия криптобиржи, в первую очередь, рассматриваются юрисдикции из белого списка. Так, печально известная FTX, входившая в ТОП-3 по числу пользователей, базировалась на Багамах и в Антигуа и Барбуда. А для работы с американскими клиентами в США была открыта дочка FTX US.
В 2021 году открытие криптобиржи в офшорной зоне давало ряд преимуществ по налогообложению, а требования и процедуры были более мягкими, чем в западных юрисдикциях. После краха FTX закон DARE на Багамах, как и большинство других, был значительно ужесточен.
Офшорные юрисдикции
FTX продемонстрировала всему миру, как слабый контроль в области цифровых активов может вызвать многомиллиардные убытки (в рамках банкротства признано $11 млрд клиентских требований). Ее крах в 2022 году вызвал ужесточение действующих и появление новых регулирующих отрасль законов, в том числе и в офшорных зонах.

Чистых офшоров, где финансовая компания может открыть бизнес и привлекать сторонний капитал со всего мира без жестких правил и получения лицензии, практически не осталось. Исключением можно считать разве что Панаму, где законопроект находится на рассмотрении. Но даже в случае запуска криптоплощадки на ее территории есть неиллюзорный шанс получить блок или ограничения от международных платежных систем, банков-корреспондентов, а в случае серьезных нарушений – бан от подразделения Министерства финансов США (OFAC) с занесением в черный список SDN, потенциальное судебное разбирательство и включение организаторов в международный розыск.
Относительно свободным еще остается обмен в криптовалютах без выхода на фиат – это удел децентрализованных криптобирж (DEX). Но и здесь не все гладко.
DEX и комплаенс
Все классические централизованные криптобиржи (CEX) находятся под пятой регуляторов – входы и выходы в фиат требуют соблюдения всевозможных процедур и правил от KYC, EDD и AML до CFT и TRP[1]. Но есть еще и DEX`ы, где пользователи оперируют только криптовалютой, а обмен происходит в рамках P2P благодаря смарт-контрактам. Казалось бы – вот она свобода и настоящая децентрализация.
Но ахиллесова пята DEX – это головная организация, компания, стоящая за работой площадки. А также ее команда, руководители, которых в случае выявления нарушений можно привлечь вплоть до уголовной ответственности.

Поэтому DEX`ы точно так же проводят комплаенс-политику, отсекая подозрительные адреса или включая блокировку по геометкам. Например, в PancakeSwap не зайти с IP-адреса, привязанного к Ирану или КНДР (черный список FATF), а Uniswap на уровне приложения не даст проводить операции с нежелательными адресами, окрашенными аналитической компанией TRM Labs.
Иногда блокировки выходят за рамки наложенных ограничений. Наглядно это проявилось в октябре, когда из-за рекомендаций OFAC платформа Uniswap закрыла доступ к интерфейсу из Крыма, ДНР и ЛНР.
В поисках компромисса
Криптовалютный рынок стартовал как максимально децентрализованный финансовый кластер с всеобщим равенством и полным отсутствием цензурирования. Это был вызов централизованной финансовой системе, негативные аспекты которой выражаются в циклических кризисах и постоянной девальвации денег. Однако без должного контроля криптовалюты действительно могут быть удобным инструментом для проведения незаконных операций. Поэтому дальнейшая их интеграция в традиционную финансовую систему естественным образом привела к появлению ограничений.
Глобальный финансовый рынок сильно переплетен – на сегодняшний день практически не осталось юрисдикций, где криптовалюты могли бы обращаться так же свободно, как это происходило до 2022 года. Во многом это произошло ради защиты интересов пользователей, чтобы команды, подобные FTX, не могли беспрепятственно пользоваться чужими средствами. Но отчасти это происходит и для навязывания политической повестки, когда даже в святая святых, в DEX, применяются блокировки по географической принадлежности.
Подобные процессы проходят повсеместно, это дилемма не только криптовалютного рынка. Например, общение в интернете раньше тоже было более свободным – было принято высказываться без обиняков, а поиск информации ограничивался только фантазией. Сейчас же во всем мире вводятся все новые законы, ограничивающие распространение той или иной информации. Добавим сюда коммерциализацию поисковиков – и вот уже на любой вопрос выходят десятки однотипных не представляющих интереса страниц. И это не говоря о преследовании за инакомыслие.
Как недавно сказал Павел Дуров: «То, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в главный инструмент контроля… Нас заставили поверить, что величайшая борьба нашего поколения — разрушить всё, что оставили нам предки: традиции, приватность, суверенитет, свободный рынок и свободу слова».
Так есть ли компромисс между цензурой и свободой слова, между централизацией и децентрализацией? Или каждое децентрализованное решение вынуждено пройти через дикую юность, компромиссную зрелость и регуляторную окостенелость? Пока еще это открытый вопрос.
[1]
KYC (Know Your Customer) – идентификация и верификация клиента
EDD (Enhanced Due Diligence) – углубленная проверка транзакций
AML (Anti-Money Laundering) – противодействие отмыванию средств
CFT (Countering the Financing of Terrorism) – противодействие финансированию терроризма
TRP (Travel Rule Protocol) – прикрепление к транзакции идентификационных данных