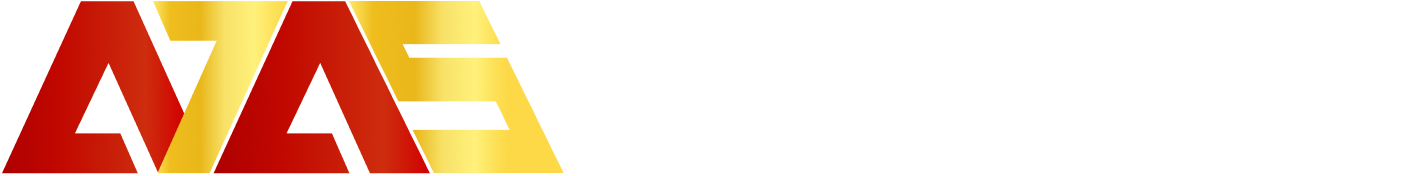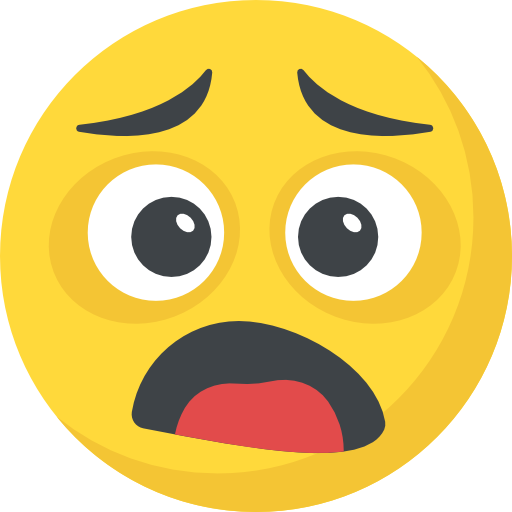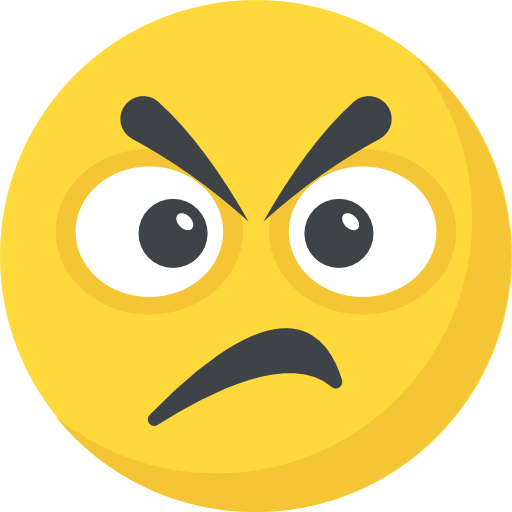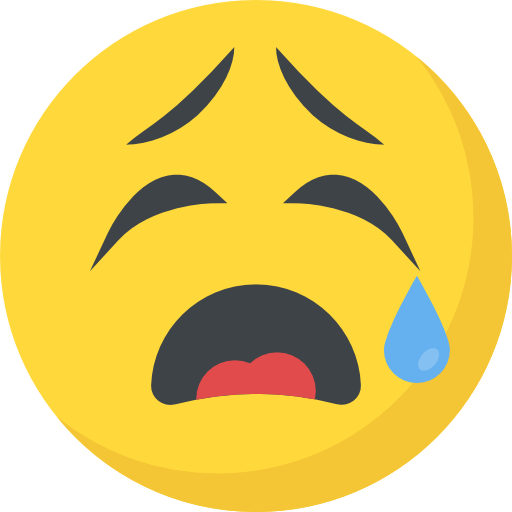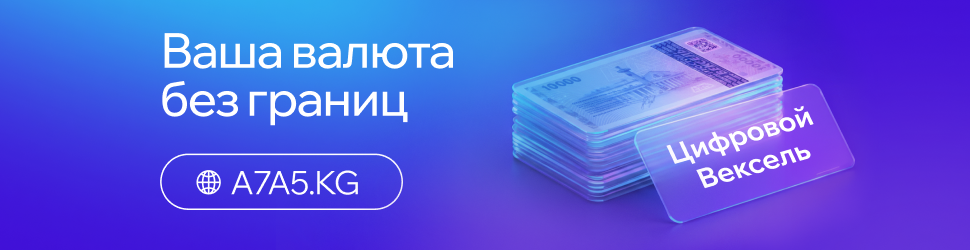Сейчас читают: Бесконечно нужный витамин
-
01
Бесконечно нужный витамин
Бесконечно нужный витамин

Кира БЕЛОВА
В России заработали новые правила для БАДов: врачи получили право назначать только те добавки, которые войдут в утверждаемый Минздравом перечень. Параллельно усиливается режим блокировки немаркированного товара на кассе. Повышенное внимание государства к этому сегменту неслучайно. Спрос на витамины растет, но зачастую их разумному приему мешает переизбыток рекламы и наше нежелание внимательно читать написанные мелким шрифтом длинные инструкции. Мы решили разобраться с азов: почему дозы важнее слоганов и надо ли нам ориентироваться на американский опыт
«Опухшие десны, из которых сочится гниль; зловонный дух, исходящий изо рта; тело, истощённое и покрытое кровоточащими пятнами». Звучит будто описание современного ужастика, но такие записи встречаются в дневниках путешественников XVIII–XIX веков. Современники писали, что «плоть проваливалась, словно воск, а зубы выпадали, как камни».
В течение столетий цинга становилась главным врагом мореплавателей и полярников: команды погибали, не дойдя до цели. Так продолжалось до открытия витаминов.
Помните, как наши мамы и бабушки холодными зимними вечерами пичкали нас квашеной капустой и мочеными ягодами, да отпаивали шиповником? В отличие от сгинувших экспедиций они уже знали, что причиной цинги является дефицит обыкновенного (и повсеместно доступного сегодня) витамина С.
От гипотезы — к Нобелевке
Витамины как класс веществ были открыты сравнительно недавно — в начале XX века. В 1906 году английский биохимик Фредерик Гоуленд Хопкинс показал, что в пище есть «дополнительные факторы», без которых организм не может нормально развиваться, и именно их отсутствие вызывает тяжелые болезни. За это открытие он получил Нобелевскую премию.
В 1912-м польский ученый Казимир Функ выделил вещество, излечивающее от полиневрита, и назвал витамином (от vital amine — «жизненно необходимая амина»). Он же предположил, что такие вещества могут объяснить происхождение многих болезней. Дальше последовал настоящий прорыв:
- 1913 год — выделен витамин A, связанный с ростом и здоровьем зрения;
- 1920-е годы — открыты витамины группы B, что позволило победить бери-бери и пеллагру;
- 1922 год — установлен витамин D, отсутствие которого вызывало массовый рахит у детей;
- 1931–1932 годы — венгерский биохимик Альберт Сент-Дьердьи выделил витамин C, окончательно решивший проблему цинги;
- чуть позже были открыты и описаны витамины E и K.
Русская школа биохимии в лице Е. С. Северина определяет витамины как «биологически активные низкомолекулярные органические соединения различной химической природы, синтезируемые в основном растениями и микроорганизмами, незаменимые пищевые факторы для человека и животных». Это строгая, фундаментальная формулировка: витамины — то, что мы обязаны получать извне, чтобы организм не разрушался.
Американский учебник Harper’s Illustrated Biochemistry говорит иначе, но с тем же смыслом: «Vitamins are a group of organic nutrients, required in small quantities… that generally cannot be synthesized by the body and must therefore be supplied in the diet». Органические нутриенты, необходимые в малых количествах и почти не производимые самим телом. Удивительное совпадение двух школ, разделенных океаном: и там, и здесь витамины — это чужое, но нужное человеку для продолжения жизни.
Где здоровье — там свобода
Сегодня витамины существуют в двойном измерении. В лабораториях и клиниках — как фармакологические агенты, прописываемые врачами при дефиците или специфических заболеваниях. В повседневной культуре — как элемент рациона, часть индустрии wellness, баночка на кухонной полке рядом с банкой меда.
Споры не утихают: одни считают витамины лекарствами, требующими строгого контроля и доказательной базы. Другие видят в них продолжение питания, «природное дополнение», которое каждый вправе выбирать сам. Витамины продолжают оставаться не только предметом биохимии, но и ареной культурного противостояния — между медициной и образом жизни, между строгой наукой и философией свободы. На этом фоне производители БАДов борются за внимание и кошелек потребителя, но агрессивная реклама лишь порождает у него новые страхи и сомнения.
- Передозировка. Не навредить бы себе, перебрав с дозой.
- Маркетинг. Для «лечения всех болезней» и «возвращения молодости»? Наглая ложь!
- Побочные эффекты. Немудрено, если в одной капсуле — полтаблицы Менделеева.
- Зависимость. И каждый день будет потерян, пока не примешь горсть NZT, словно тот бедолага в исполнении Брэдли Купера…
Такие страхи — понятны. Что интересно, в США они превратились в целую философию. Америка не просто рынок витаминов, это целая лаборатория ответственного отношения к здоровью. И витамины здесь — не абстрактный выбор, а экономическая необходимость.
В США никогда не было бесплатной медицины. Чтобы купить лекарство, американцу нужно сначала попасть к врачу. Это небыстро и недешево: кроме ежемесячной страховки (на семью — от $600 до $2500, а то и больше), любой визит оплачивается отдельно — от $20 до $40 при наличии страховки и от $50 до $300 без нее. К врачу не попасть за час, как в Москве — неделя ожидания считается удачей.
Поэтому американцы вынуждены более проактивно заниматься своим здоровьем — и в этом проявляется роль витаминов, БАДов и «пищевой профилактики».
Закон, который изменил все
Решающим стал 1994 год, когда был принят Закон о пищевых добавках, их образовании и безопасности (DSHEA — Dietary Supplement Health and Education Act). Он закрепил ключевое правило: добавки — не лекарства. А значит:
- не требуют одобрения FDA (Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США) перед выходом на рынок;
- не обязаны проходить дорогостоящие клинические испытания;
- могут свободно продаваться при условии, что не несут опасности.
Добавки начали рассматривать как пищу, а не фармацевтику. Но с одним условием: на упаковке должен быть дисклеймер «не является лекарственным средством».
Это был компромисс между государством, бизнесом и культурой потребления. Инициаторами закона стали два сенатора — Оррин Хэтч и Том Харкин. Республиканец из Юты и демократ из Айовы. Хэтч был прагматиком. Его штат уже в 1970-е считался центром нутрицевтической индустрии: здесь рождались и развивались компании, продающие витамины, травы, экстракты. Защищая их, он защищал экономику родной земли. Но интерес не исчерпывался лоббизмом. Сам Хэтч ежедневно принимал целый «витаминный коктейль», уверяя, что именно тот помогает ему сохранять ясность ума и энергию в пожилом возрасте. Его кабинет в Капитолии скорее напоминал wellness-лавку, чем офис политика.
Харкин пришёл к добавкам с другого фланга. Разочаровавшись в традиционной медицине, он стал убежденным сторонником фитотерапии, основал Офис альтернативной медицины при Национальных институтах здравоохранения. Он говорил: «Американец должен иметь право искать здоровье там, где медицина молчит». Для него добавки были вопросом веры и прав личности.
Хэтч говорил о свободе рынка, Харкин — о свободе выбора. Один – бизнесмен, другой — почти проповедником. Но вместе они продвинули закон, который породил не просто рынок, а новую культуру.
«Достаточно одной таблэтки»
Главная уловка, которую не всегда понимает российский потребитель, заключается в дозировке. Закон DSHEA закрепил важное правило: биологически активные добавки — это не лекарства, а продукты, в которых действующие вещества заведомо содержатся в дозировках ниже лечебных. А в чем разница, если действующее вещество — одно и то же? Правильно, в количестве! В баночке с надписью «не является лекарственным средством» дозировка профилактическая. Достаточная, чтобы, принимая витамины, не умереть от дефицита этого вещества, но не достаточная для лечения и полного выздоровления.
Парадокс, который часто не понимают в России: если на упаковке американских витаминов написано «200% суточной нормы», это вовсе не значит, что одна таблетка будет в два раза сильнее лекарства. Речь в любом случае идет о количестве, которое не достигает терапевтического (лечебного) уровня.
Примеры наглядны:
- Витамин C при простуде — клинические исследования показывают эффект при дозировках до 4 г в день. Но такие дозы в свободной продаже почти не встретишь даже в США. Обычно таблетки содержат 250–500 мг.
- Омега-3 (EPA и DHA) — исследование REDUCE-IT использовало 3,8 г в день и доказало снижение сердечно-сосудистого риска. Но большинство комплексов на рынке содержат 300–500 мг. А в этой дозировке Омега работает тоже только как профилактическое средство.
Американская модель как бы говорит: «Мы даем тебе безопасный продукт. Но думать, для чего и в каком количестве он нужен — должен ты сам». Российский же потребитель, выросший в культуре доверия к государству и врачам, часто ожидает, что все решат за него. Хотя в России законодательство уже учитывает положительный американский опыт (дисклеймеры, «допуски», т. е. допустимые уровни содержания биологически активных в суточной порции добавки и т. п.), психологическая модель остается прежней: «Скажите, сколько пить и зачем». А не «пойму сам».
- Советы и лайфхаки
- Ищите научную информацию, а не маркетинг.
- Используйте комплексный подход. Скажем, наибольший эффект для замедления биологического старения дает сочетание витамина D, Омега-3 и регулярной физической активности.
- Особенности витамина A — контролируйте его дозировку! И дефицит, и избыток опасны: первый может привести к проблемам со зрением и иммунитетом, второй — связан с повышенным риском рака и токсическим поражением печени.
- Как понять, что добавка вызывает легкую пищевую аллергию? Вводите новые добавки постепенно — по одной один раз в 3–7 дней. Следите за самочувствием и даже за весом: если неожиданно стали полнеть, это может означать реакцию на компонент. Стоит сменить производителя или форму (капсула, таблетка, раствор). Вес — лишь косвенный маркер; ориентируйтесь прежде всего на кожу/ЖКТ/дыхательные симптомы. При подозрении — смените форму/производителя и обсудите с врачом.
- Когда принимать? Если на баночке нет точного указания, большинство витаминов и добавок лучше принимать после завтрака, запивая стаканом воды. Так они лучше усваиваются и меньше раздражают желудок.
- Найдите «своего» врача. Свой доктор — это тот, с кем у вас совпадают взгляды на здоровье и медицину, на роль витаминов и БАДов в целом. К сожалению, такие доктора встречаются нечасто. А пока вы ищите такого врача, используйте метод второго мнения.
- Не бойтесь второго мнения. В США Second opinion — важная составляющая медицинской диагностики. В его основе не недоверие лечащему врачу, а способ получить больше информациии снизить риск ошибки.
Статья носит информационный характер и не заменяет консультацию врача. Любые лечебные дозировки — по назначению специалиста.
«Соединённые Штаты — единственная развитая страна, где происходят медицинские банкротства».
В то время как в России, Китае и большинстве западных государств действует всеобщее или почти всеобщее медицинское страхование, в США медицинская система устроена иначе.
Высокая стоимость лечения. Медицинские услуги и лекарства в США чрезвычайно дороги. Без страховки (или при ограниченной страховке) даже краткое пребывание в больнице может стоить десятки тысяч долларов.
Неравный доступ к страховке. Хотя после реформы (Obamacare) доступ к страховке расширился, миллионы американцев остаются без полноценного покрытия или с полисами, не покрывающими серьёзные заболевания.
Риск личного банкротства. Когда человек не может оплатить лечение, он вынужден брать кредиты или объявлять себя банкротом. Это явление получило название medical bankruptcy — медицинское банкротство.